Готовили выставку почти год, и работала над ней специально приглашенный куратор с международным именем. Сейчас уже идут переговоры о возможных показах и в других странах. Менлибаева из поколения бунтарей 1990-х, уже много лет живёт больше в Европе, чем на родине, но все её перформансы, видео, инсталляции — об Азии, наших традициях, особенно о женщинах, настоящих амазонках, свободных и мистических. И всегда есть социальный подтекст, всегда за визуальным ошеломлением возникает необходимость собрать собственные ассоциации, покрутить их, как кубик Рубика, и прийти к неожиданным выводам.

- Такая большая выставка на родине — это не начало возвращения?
- Алматы — мой город, место, где я родилась, и это навсегда, да и Казахстан я не покидала. Просто работа художника в современном мире сильно изменилась. Почему-то есть такой стереотип, что художник должен сидеть в мастерской, работать, и, если он талантлив, все придёт само. На самом деле наша задача — исследовать этот мир, и тут очень важна насмотренность. Надо много ездить по миру, видеть интересные выставки, сравнивать культуры, понимать, что цепляет. Да, локальный посыл важен, но при этом сейчас необходимо быть частью глобальной арт-сцены, частью мирового диалога. Я сама это поняла в конце 90-х, и если бы тогда оставалась в Казахстане, то не увидела какие-то темы, не сделала бы многие работы. Сейчас авторов много, и надо быть действительно лучшим, чтобы выбирали именно тебя. Так что место жительства скорее тема прежнего, оседлого поколения, но когда ты замираешь в одном месте, то сужается диапазон восприятия. А для художника это вредно. Так что надо избавляться от тоталитарного мышления и убеждения, что, если кто-то куда-то уехал, значит, предал себя и свою страну. Это же наше кочевое мышление: чем больше вы увидите, тем успешнее вы сможете говорить о своём регионе и на глобальном уровне.
- Почему для вас так важно говорить о своём регионе?
- Потому что я пережила ощущение вакуума, когда люди не понимали, что такое Казахстан, что такое вообще Центральная Азия, из чего она состоит. Когда я приехала в Америку, я вообще поняла, что отсутствие независимого статуса мешало нам говорить о себе, и остальной мир мало что знает о Казахстане.

- Тем не менее вы порой показываете не самые приглядные стороны и проблемы…
- Социальный подтекст всегда нужен, он помогает рассказать, откуда ты, чем живешь и что происходит в твоей стране. А ещё мне всегда было интересно показать, как художник с моей хорошей школой может работать в современном культурном контексте.
У арт-рынка есть ограничения, он не все готов принять, но деньги надо учить. В том числе и тому, что мир меняется. Искусство нужно разное — и чабаны в полях, и видео-арт.
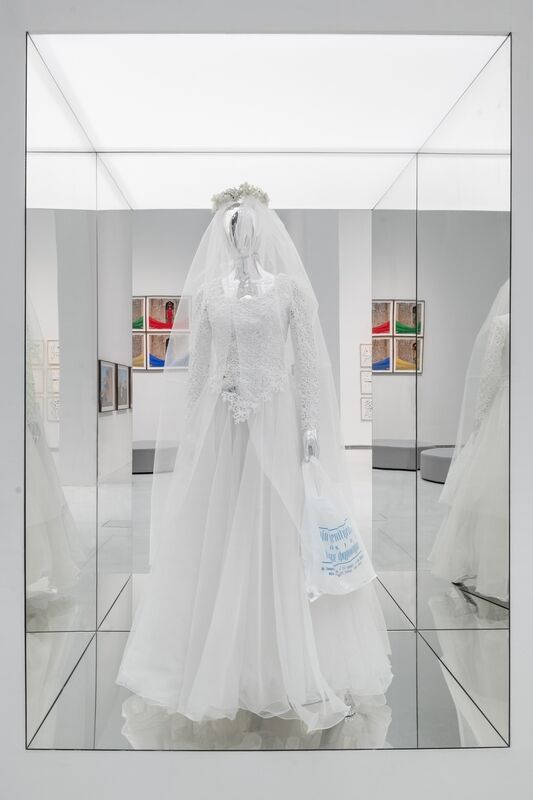
- У вас в роду не было шаманов? Такое ощущение, что мистическая и тенгрианская темы вам очень близки.
- Это действительно так, в шаманстве нет морализующих людей. Иногда интернет напоминает мне шаманские миры, в которых все может сосуществовать рядом. Но в роду никто не был связан с ремеслом баксы. Разве что я сама в детстве прошла лечение у такой знахарки, и это произвело на меня огромное впечатление. Сейчас шаманы никуда не делись, они просто иначе называются. Мне вообще нравится вариативность, нелинейность подходов. Надо понимать, что я и моё поколение из очень атеистического мира. В какой-то момент пришла свобода и большое количество эзотерической информации, оказались возможны разные взгляды на время, на бытие, на искусство. Например, сейчас радует, что казахстанское арт-сообщество не разделяется, как раньше, на два лагеря. Если прежде современное искусство и новые жанры были уделом небольшой группы, то сейчас все изменилось.
Ксения ЕВДОКИМЕНКО, Алматы

